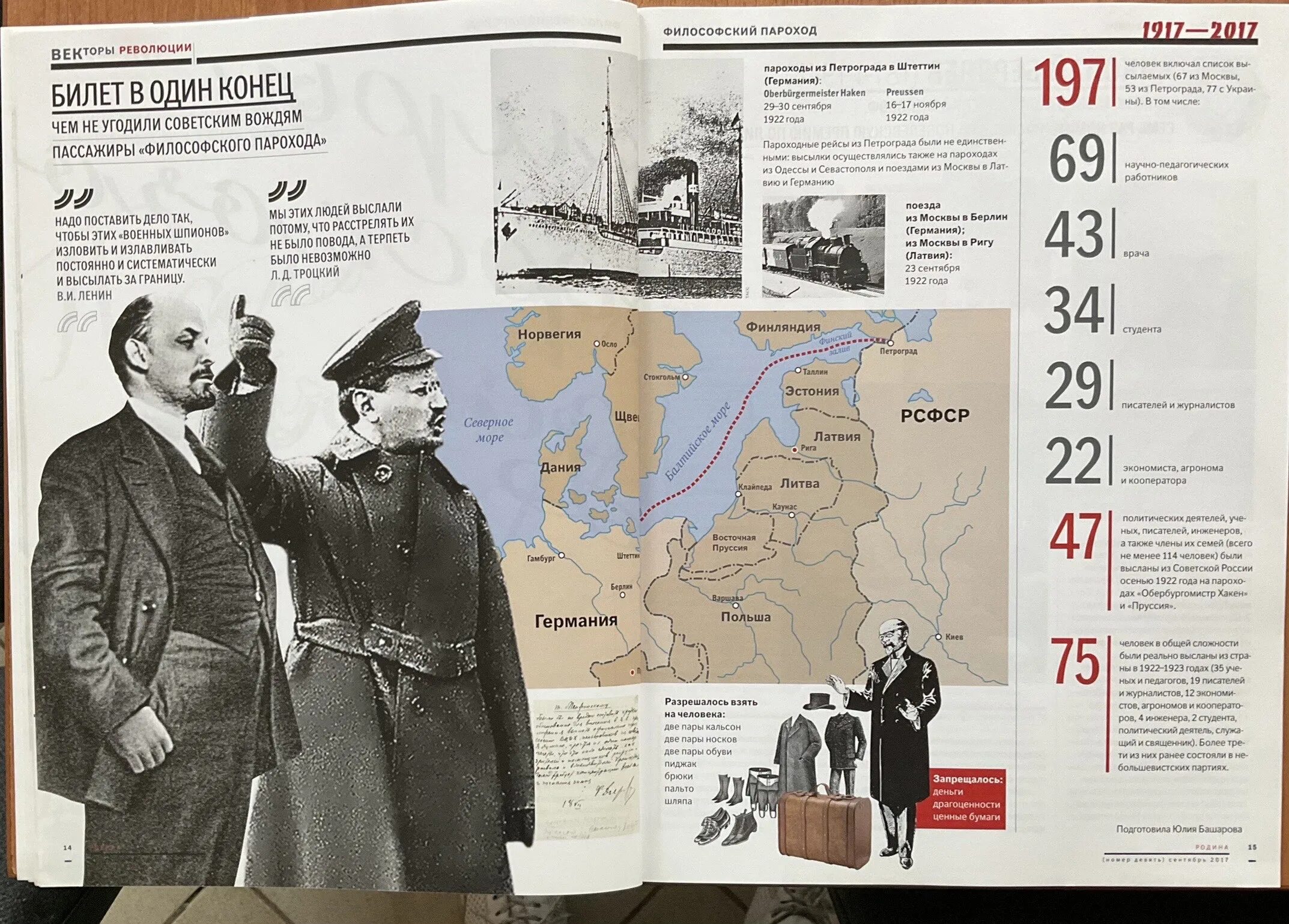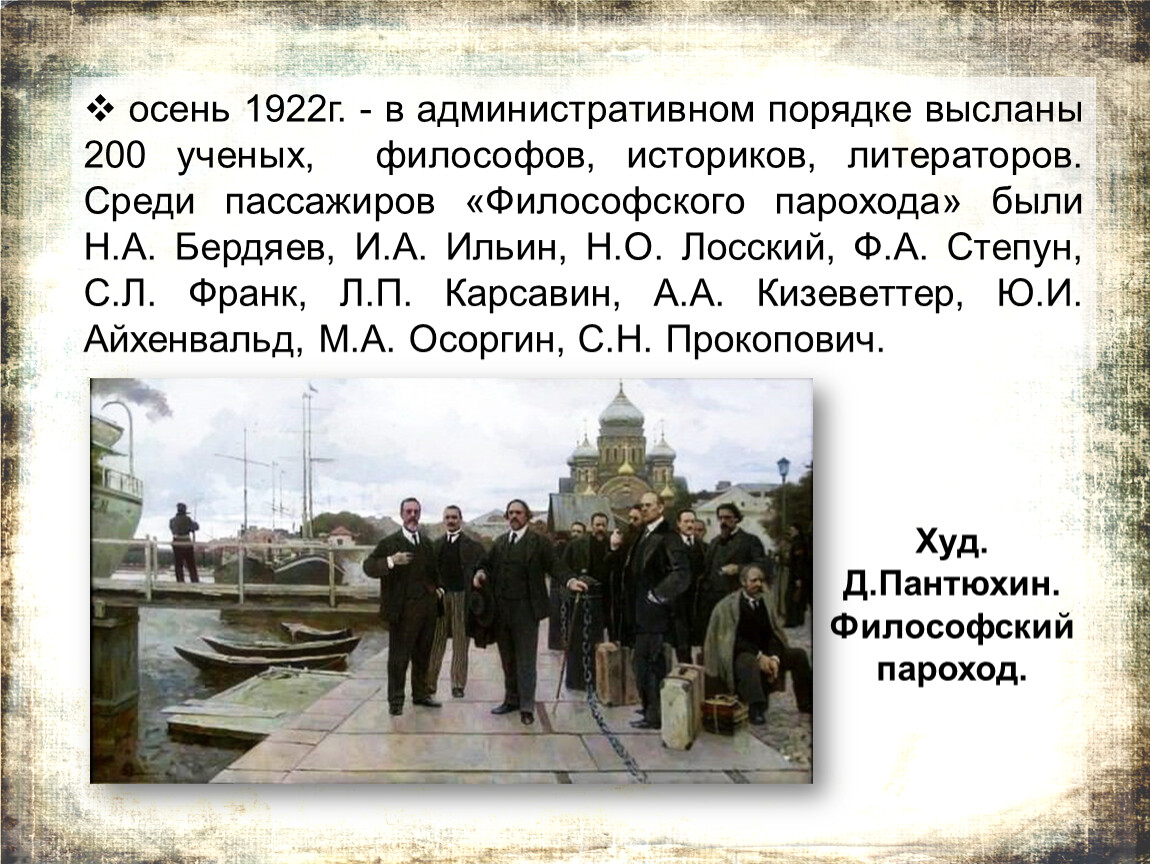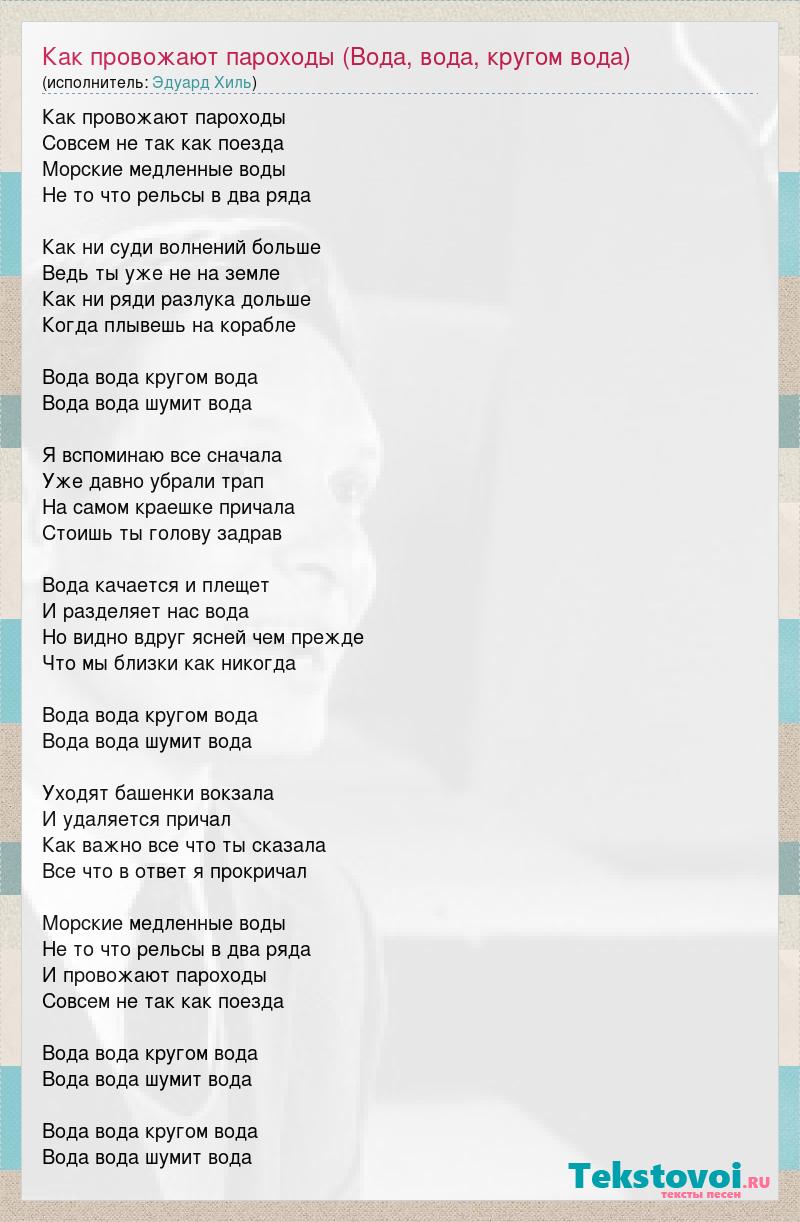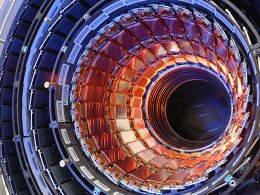Во время подготовки этой статьи я неоднократно обращался в офис Майкла Крациоса, советника президента по науке и технологиям. Я хотел узнать, может ли Крациос, занимающий должность, ранее принадлежавшую Ванневару Бушу, дать какой-либо комментарий по поводу заявлений о беспрецедентной атаке администрации Трампа на науку. Я поинтересовался, не повлияет ли политика правительства на желание американских исследователей и иностранных специалистов работать в американских лабораториях. Я надеялся узнать, как человек, ответственный за сохранение научного господства США, реагирует на эту очевидную тенденцию к снижению качества исследований. Но ответа я так и не получил.
Для американской науки еще не все потеряно. Законодатели уже дали понять, что не намерены одобрять полное сокращение финансирования Национальных институтов здравоохранения, Национального научного фонда и NASA, о котором просил Трамп. Эти агентства по-прежнему будут иметь доступ к десяткам миллиардов долларов федерального финансирования в следующем году. Генеральные прокуроры «синих» штатов вернули себе часть отмененных в этом году грантов в суде. Исследовательские институты еще не пришли в себя после произошедшего. Некоторые из них подали в суд на администрацию [Трампа] за превышение полномочий. Университеты «красных» штатов надеются, что их губернаторы вскоре наберутся смелости и выступят в их защиту. «Одно дело — закрыть исследования в Гарварде. И совсем другое — закрыть Университет Арканзаса», — заявил Стивен Шейпин, историк науки из этого же университета.
Правительство США не финансирует все научные исследования, проводимые в стране. Филантропы и частные компании поддерживают некоторые из них и будут продолжать это делать. Соединенные Штаты не должны столкнуться с быстрым крахом, как это произошло в Советском Союзе, где не было развитого частного сектора, способного принять ученых. Однако даже крупные корпорации, обладающие значительными бюджетами на исследования и разработки, обычно не финансируют открытые исследования фундаментальных научных проблем. За исключением, возможно, Bell Labs в период ее расцвета, они сосредоточены на проектах, которые могут принести немедленную прибыль. Их акционеры были бы недовольны, если бы они вложили 10 миллиардов долларов в строительство космического телескопа или коллайдера частиц, так как это заняло бы много времени и принесло бы небольшую прибыль.
Приватизированная система американской науки будет ориентирована на краткосрочные задачи. Это может привести к тому, что исследователи, стремящиеся проводить долгосрочные эксперименты с дорогостоящим оборудованием, будут искать работу в других местах. «Американская наука может потерять целое поколение. Молодые люди уже начинают осознавать, что наука уже не так перспективна, как раньше», — сказал Шейпин.
Если США перестанут быть мировой научно-технической сверхдержавой, это почти наверняка скажется на них. Технологический сектор Америки может лишиться своего творческого потенциала. Но сама наука, в глобальном смысле, будет в порядке. Глубокое человеческое любопытство, которое движет ею, не принадлежит ни одному национальному государству. Отказ Америки [от науки] навредит только самой Америке, сказал Шейпин. Наука может стать еще более децентрализованной, сформировав многополярный мир, подобный тому, что существовал в XIX веке, когда за техническое превосходство боролись британцы, французы и немцы.
Или, возможно, к середине XXI века Китай станет ведущей научной державой в мире, как это было примерно тысячу лет назад. Китайцы уже оправились от потерь, понесенных во время Культурной революции под руководством Мао Цзэдуна. Они восстановили свои исследовательские институты, и правительство Си Цзиньпина предоставляет им достаточное финансирование. Китайские университеты теперь входят в число лучших в мире, а китайские ученые регулярно публикуются в Science, Nature и других ведущих журналах. Высококлассные ученые, которые родились в Китае и провели годы или даже десятилетия в американских лабораториях, начали возвращаться на родину. Однако пока Китай не может похвастаться тем, что успешно привлекает лучших иностранных специалистов, которые, в силу своей профессии, высоко ценят свободу слова.
Что бы ни происходило в будущем, имеющиеся знания, вероятно, не будут утеряны, по крайней мере, не в значительных масштабах. Сегодня люди научились лучше сохранять их, даже в условиях взлетов и падений цивилизаций. Раньше все было куда более рискованно: греческая модель космоса могла бы быть забыта, а коперниковская революция — значительно отсрочена, если бы исламские писцы не сохранили ее в Доме Мудрости в Багдаде. Однако сегодня книги и журналы можно найти в обширной сети библиотек и центров обработки данных, которая охватывает все семь континентов. Благодаря машинному переводу они стали доступны любому ученому, независимо от его местоположения. Тайны природы будут продолжать раскрываться, и даже если американцы не будут первыми, кто их обнаружит, это не изменит их важности.
В 1990 году Роальд Сагдеев переехал в Америку. Ему было трудно покинуть Советский Союз. Два его брата жили неподалеку от его дома в Москве, и, прощаясь с ними, он боялся, что это будет в последний раз. Сагдеев подумывал о переезде в Европу, но Соединенные Штаты казались более перспективными. Во время дипломатических визитов в США он познакомился со многими американцами, включая свою будущую жену. Он также подружился с различными людьми, помогая управлять советской частью миссий «Аполлон-Союз». Когда Карл Саган посетил Институт космических исследований Академии наук СССР в Москве, Сагдеев показал ему все самые интересные места, и с тех пор они стали близкими друзьями.
Чтобы не вызвать подозрений у советских властей, Сагдеев сначала отправился в Венгрию. Только после того, как он благополучно прибыл в эту страну, он купил билет в Соединенные Штаты. Он принял должность профессора в Мэрилендском университете и поселился в Вашингтоне. Ему потребовались годы, чтобы адаптироваться к новым культурным нормам. Он до сих пор помнит, как его остановили за нарушение правил дорожного движения, и как он по ошибке предъявил советское удостоверение личности.
В итоге именно американская наука стала для Сагдеева стимулом для переезда в новую страну. Он был впечатлен масштабами американских исследовательских программ и его привлекало, что они были обеспечены реальным финансированием. Он ценил то, что ученые могли свободно перемещаться между институтами и не должны были пресмыкаться перед партийным руководством, чтобы получить финансирование. Однако, когда я в последний раз разговаривал с Сагдеевым 4 июля, он был очень расстроен из-за состояния американской науки. Он снова становится свидетелем упадка великой научной державы. Он прочитал о предлагаемом сокращении финансирования в газете. Он слышал о группе исследователей, планирующих покинуть страну. Сагдееву уже 92 года, и он не собирается следовать их примеру. Но, как американцу, ему больно видеть их отъезд.
Росс Андерсен (Ross Andersen)
![[«Как провожают пароходы...»] Каждой научной империи приходит конец. Науке в США предрекли скорый крах: цитадель разума пала, массовый исход американских «научных беженцев» начался](/story_images/708000/1754206478_62_1754206031_23_1754205790_41_1754205757_31_1754205700_39_1754205662_97_generated.jpg)