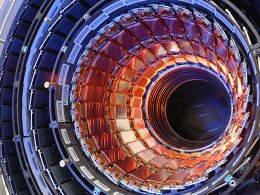Вы верите в перспективы российской науки?
Комментарии участников:
Физтех вошел в число вузов, которые государство собирается продвигать в международных рейтингах. Их задача — попасть в первую сотню учебных заведений мира. Профессор МФТИ Константин Агладзе показал корреспондентам РБК Александре Федотовой и Кириллу Сироткину свою лабораторию и рассказал о грядущих революционных преобразованиях в Физтехе, об обмелении науки, о недоверчивых россиянах и удивительной Японии.
Ученый с мировым именем, бывший профессор Киотского университета К.Агладзе стал одним из первых победителей конкурса правительственных мегагрантов: в 2010г. он получил финансирование в 5 млн долл. для поддержки своих исследований и открытия лаборатории в родном Московском физико-техническом институте. На протяжении двух лет он проводил в МФТИ около четырех месяцев в год, а с весны 2013г. ученый окончательно вернулся на родину.
Сейчас будет происходить очень серьезная реформа некоторых вузов. Речь идет о Программе по повышению конкурентоспособности.
В 15 вузов будут влиты серьезные средства, чтобы поднять их уровень. Они должны войти в сотню лучших в мире, но это не самоцель, это индикатор. Цель — вытащить эти вузы, чтобы они потом организовали сеть, из которой бы проросла, как грибница, будущая образовательно-научная система. Из этих университетов будут выходить люди, они будут дальше работать, и все это будет развиваться.
«Система Физтеха», придуманная Петром Леонидовичем Капицей, предполагала симбиоз Академии наук и закрытых заведений, где разрабатывались космические и ядерные технологии. А Физтех принципиально не имел своей базы как исследовательский университет, его профессора работали в академических институтах.
Сейчас есть желание пойти по наиболее эффективному пути североатлантической научной модели, Физтех будет создавать свою мощную исследовательскую базу. В рейтинге университетов мира исследования имеют большое значение. И это не зря, потому что, когда студенты общаются не с посредником, который, возможно, очень хорошо выучил предмет, но не является действующим ученым, а с человеком, который сам делает науку, — это совершенно другое ощущение. Это как что-то забронзовевшее и что-то очень живое.
Эти 50 лабораторий не должны быть аморфными, разбросанными по факультетам (факультеты все-таки должны ориентироваться больше на учебную работу). Они будут распределены по нескольким направлениям. Это тренд такой же, как на Западе: если какое-то направление признается перспективным, там концентрируются усилия и создается институт.
У нас по этим направлениям будут созданы пять исследовательских центров, один из них — биомедицинского профиля — Центр живых систем. Мне поручено организовать его и стать директором.
В российском обществе вообще некоторые вещи находятся в зародышевом состоянии. Речь идет о реальном экспертном пуле и уважении к экспертам. За счет привлечения зарубежных ученых это пытаются изменить. Но есть еще одна вещь — отсутствие культуры полемики. Начинается обсуждение серьезного вопроса — и сразу так: я хороший — ты плохой, я честный — ты распильщик.
Сразу идет упрощение, нежелание понять точку зрения оппонента, его позицию. Мне кажется, это совершенно не унизительно, если тебя какими-то аргументами убедили, склонили к тому, что ты говоришь «Вы знаете, я ошибся», или «Вот здесь я с вами соглашусь, а здесь — не соглашусь». Или, например, сказать так: «Я понял вашу позицию, моя позиция отличается. Вы меня не убедили, я понимаю, что вас не переубедил, но давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация». Этой культуры нет. Идет то же самое, что было при большевиках: «кто не с нами, тот против нас». И это мешает на всех уровнях. На уровне, когда ты взаимодействуешь с продавцом в магазине, когда взаимодействуешь с чиновником, когда ты решаешь какие-то административные вещи, в конце концов, когда ты со студентами общаешься, ты тоже должен получать какую-то обратную связь, а не «закладывать в головы».
Общий уровень науки упал. Где-то он, наверное, сохранился, где-то вырос, но в общем и целом он обмелел, как Аральское море.
Вот взять Пущино, это мой родной город, иногда люблю туда ездить, чтобы некоторое время спокойно пожить. Массовый набор в тамошние научно-исследовательские институты происходил в начале 70-х. Я пришел туда работать в 1978г., уже мало кого принимали на работу, трех человек только взяли на целый большой Институт биофизики. А в начале 70-х брали по 60-90 человек. То есть все оказались примерно одного возраста. Сейчас им всем за 60, кому-то под 70. Кто-то уехал, кто-то умер. Этим людям еще 5-7 лет, а потом кто там будет работать? Пущинский университет без кампуса, без серьезной инфраструктуры — это несерьезно, университетик полувиртуальное существование влачит, пусть меня простят люди, которые там работают.
Посмотрим, что происходит в классической советской академической системе. Под сильного лидера создается лаборатория — под суперлидеров даже институты создавались. Приходят, разрабатывают тему, допустим, он такой гениальный, что тема не закрывается. Но лидер небесконечен: он умер или заболел, ушел от дел. А лаборатория остается, там десятка полтора постоянных сотрудников. И куда их девать, что с ними делать? Это заставляет браться за те темы, в которых меньше рисков. Люди-то жить должны. Подвижности, как в Америке, в России нет, когда с квартиры съехал, в другом штате снял. Здесь получил квартиру, которую ждал 10 лет или еще только ждет, а тут тема оказалась неперспективной. Поэтому невольно в этой системе рискованные работы будут отсекаться. Таким образом, все будет схлопываться, механизм такой.
В советские времена наука мощно пошла, когда были суперзадачи оборонного значения — космос, ядерное оружие и много других разработок. Появились мощные институты, которые создали школу советских физиков. Это было сделано именно для решения глобальных задач, было понятно, в каком направлении работать, а также то, что это не закроется в ближайшее десятилетие. Такие вещи должны оставаться. Университетские профессора так работать не могут, они индивидуалисты в каком-то смысле.
Есть регулярная армия, которая под бой барабанов наступает, и есть скауты-разведчики. Скаута подстрелили — ничего, второго подстрелили на том направлении, значит, туда не надо ходить или, наоборот, двинуть туда какие-то силы.
Я в юном возрасте прочитал, что в XIX веке среди математиков было очень популярно исследование конических сечений, очень много интересных задач решали по этому поводу. Но потом эта наука стала никому не нужной и умерла. Но проблемы не случилось: эти профессора так и остались выдающимися профессорами, они учили прекрасных студентов, которые потом создавали основы современной математики. Это нормально, наука — это живой организм, который сбрасывает кожу и живет дальше.
Если говорить о выдающихся ученых — они есть, но их мало, не все наши академики — выдающиеся ученые, по крайней мере в международном понимании. В Советском Союзе у нас были некоторые критерии, не все сегодня подходят под определение выдающихся ученых. При этом я, так случилось, встречался со многими чиновниками Министерства образования уровня замминистра — это очень толковые, умные и интеллигентные люди, не распильщики, они пытаются что-то сделать.
Беда заключается в том, что не было переговорного процесса на протяжении очень долгих лет. Академики, руководители академии должны были теребить правительство и требовать, чтобы для них было что-то сделано, надо было настойчиво пытаться что-то поменять, собраться в кулак и пробиваться. Те, кого мы называем чиновниками, — какие они чиновники, они такие же кандидаты, доктора наук, они получили хорошее образование, многие из них были за границей, они хотят что-то сделать. Похоже, что период, когда совместно это можно было организовать и действительно что-то сделать, прошел. Пройдена точка невозврата. Я не представляю, как они дальше будут вести какой-то диалог. По чьей вине диалог не получился — это вопрос.
Нужно реформировать, конечно, нужно делать много чего. Я сам из академического института вышел и вижу, как там все тяжело.
Был длительный период отрицательной селекции: как только человек поднимал голову, что-то у него получалось, он либо укатывал на Запад, либо шел в бизнес: все самые лучше специалисты уехали, а самые поворотливые ушли в бизнес. Остались те, кому некуда было идти. Некоторые из них — по возрасту, по личным причинам, а значительная часть — по невостребованности. Эти невостребованные люди во многих академических институтах сейчас задают тон и говорят, что это они — продолжатели светлого дела науки.
Конечно, не везде так, есть очень мощные институты и лаборатории, но их мало. Я могу выйти в белом фраке, но если на нем будет маленькое чернильное пятнышко, никто не увидит фрак, все будут смотреть на пятнышко. А тут уже не одно пятнышко — в Академии явно существовал и существует балласт.
Вопрос, что делать с этим, безумно сложный. Я сказал про невостребованных людей, но ведь нельзя людей распределить на тех, кто важен для общества как функция, и тех, кто не важен. Мы же не спартанцы, которые детей с горы бросали. Стивена Хокинга в Спарте бы не было. Это какая-то патовая ситуация, и потребуются очень серьезные усилия, чтобы ее распутать. Чтобы сохранить РАН и сделать ее действительно уважаемой и, затасканное слово, эффективной.
Главное, что мне понравилось в этом биофизике: он не шарахается из крайности в крайность, т.к. повидал на своём веку всякого.
Спасибо хозяевам нашего гостеприимного дома news2.ru за подсказку. Ссылку на интервью я нашел в «Мониторе» под задорным заголовкам (авторство журналистов РБК): «Биофизик К.Агладзе: Российская наука обмелела, как Аральское море».
Я лишь взял на себя смелость несколько сместить акценты, исходя из сути разговора с тем, чтобы не обвинили не «Ваши» и не «Наши». Надеюсь, что получилось и прежде всего, конечно у ученого ;)
Очень подробный и содержательный разговор о российской науке и её месте в мировой науке через призму роли учёного.
P.S. Спасибо за наводку, Григорий :)
Спасибо хозяевам нашего гостеприимного дома news2.ru за подсказку. Ссылку на интервью я нашел в «Мониторе» под задорным заголовкам (авторство журналистов РБК): «Биофизик К.Агладзе: Российская наука обмелела, как Аральское море».
Я лишь взял на себя смелость несколько сместить акценты, исходя из сути разговора с тем, чтобы не обвинили не «Ваши» и не «Наши». Надеюсь, что получилось и прежде всего, конечно у ученого ;)
Очень подробный и содержательный разговор о российской науке и её месте в мировой науке через призму роли учёного.
P.S. Спасибо за наводку, Григорий :)
очень взвешенная у него позиция. Приятно такого человека послушать. Нет цели пиариться или поливать чернухой, а есть цель заниматься своей профессией, такие люди вызывают уважение.
Начинается обсуждение серьезного вопроса — и сразу так: я хороший — ты плохой, я честный — ты распильщик.как напомнилооо…
Вы верите в перспективы российской науки?Российская наука доказала свою состоятельность давно. В разные времена наука держалась на достаточно хорошем уровне.
В области теоретической науки допетровская Россия отставала от Европы. Это связано со слабыми культурными связями с ней, недостаточно большим влиянием Византии, ограниченным распространеним переводных научных трудов, культурными и социальными особенностями. Первая древнерусская математическая работа создана новгородским монахом Кириком в 1136 году. Позднее переводились и распространялись книги по космографии, логике, арифметике. В XVII веке в России появляются первые так называемые школы: школа боярина Ф. М. Ртищева (1648), школа Симеона Полоцкого(литвин вывезенный после войны) (1665)для царских людей из Приказа тайных дел. Так же учил он и престолонаследников царевича Алексея и Федора царевну Софью. В России не было в общем смысле слова школ в которых изучали бы какие нибудь науки—главными распространителями письменности и некоторого книжного образования были монастыри, но и в них уровень образования сводился умению прочитать и в лучшем случае переписать. Славяно-греко-латинская академия (1678). В отличие от науки, в области техники значительного отставания от Европы не было.[1] Наука как социальный институт возникла в России при Петре I, когда в Сибирь и Америку им было отправлено несколько экспедиций, в том числе Витуса Беринга и Василия Татищева, первого русского историографа. В 1725 году была открыта Петербургская академия наук, куда были приглашены многие известные учёные Европы. Среди них был и Герхард Миллер, второй русский историк, автор норманнской гипотезы происхождения Руси, и знаменитый математик Леонард Эйлер, который не только писал учебники на русском языке, но и стал в Петербурге автором множества научных трудов. Большой вклад в развитие русской науки сделал академик Михаил Ломоносов, авторству которого принадлежит закон сохранения массы. В 1755 году им был основан Московский университет. В XVII—XIX веках захвачены и разграбленны также университеты в Дерпте, Вильно, Харькове, уничтожен в Киеве, создан в Казани.
К концу XIX века состав университетов пополнился Варшавским, Киевским, Одесским и Томским. В России появились школы выдающихся математиков: Н. И. Лобачевского, П. Л. Чебышёва — А. А. Маркова, М. В. Остроградского, физиков: А. Г. Столетова и А. С. Попова, химиков: А. М. Бутлерова — В. В. Марковникова, Н. Н. Зинина, Ф. Ф. Бейльштейна, врачей: С. П. Боткина и Н. И. Пирогова, историков: Н. М. Карамзина, С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского. Д. И. Менделеев открыл в 1869 году один из фундаментальных законов природы — периодический закон химических элементов.
В 1904 году И. П. Павлов был удостоен Нобелевской премии за работы в области физиологии пищеварения, в 1908 году — И. И. Мечников — за исследования механизмов иммунитета.
Организационная модель российской науки к 1917 году состояла из Петербургской академии наук, университетов, специальных учебных институтов, научных обществ, немногочисленных лабораторий ведомств и предприятий, ведомственных и межведомственных ученых комитетов и комиссий.
Академия наук являлась высшим научным учреждением страны и состояла из 5 лабораторий, 7 музеев, 1 института (Русский археологический институт в Константинополе), Пулковской астрономической обсерватории с 2 отделениями, Главной физической обсерватории и 21 комиссии. В 1916 году в России имелось 10 университетов, 17 технических, 10 сельскохозяйственных и лесных, 6 медицинских, 4 ветеринарных, 6 коммерческих, а всего 100 высших учебных заведений.
Научные общества, которые до начала XX века были в основном университетского типа функционировали, как правило, при университетах, объединяя ученых, студентов и любителей-профессионалов (Московское общество испытателей природы, Вольное экономическое общество, Русское географическое общество, Русское техническое общество). К 1917 году их число превысило 300.
Научные ячейки при министерствах и ведомствах (Горный ученый комитет, Геологический комитет и т. д.) обслуживали практические нужды этих ведомств.
Заводская наука в дореволюционной России находилась на стадии зарождения. Лишь на немногих крупных предприятиях имелись лаборатории и конструкторские бюро.
Дореволюционная наука характеризовалась фрагментарностью развития, отсутствием широкого исследовательского фронта. Сохранялась сильная зависимость научных учреждений России от передовых стран по линии приборов, лабораторного оборудования и химических реактивов. Если в целом научный потенциал дореволюционной России по качественным параметрам (общий уровень развития естественнонаучной и научно-технической мысли, глубина и культура исследований, квалификация научных кадров) не уступал потенциалу западных стран, то по количественным показателям заметно уступал. Технико-экономическая и культурная отсталость страны ставила узкие рамки научно-техническому развитию. Промышленность не предъявляла никаких запросов ученым и не испытывала потребность в них.
Советский период характеризуется централизованным управлением науки. Значительная часть ученых работали в АН СССР, Образовательных учреждениях, отраслевых НИИ. Началось развитие науки не только в Москве, Ленинграде, Киеве, но и в Новосибирске, в Свердловске, Хабаровске.
Организационная модель российской науки была сформирована в 1917—1930 гг. и была ориентирована на потребности индустриализации. В этот период были сформированы ведомственные сети научных организаций (наркоматов земледелия, здравоохранения и т. д.). В 1931 г. были установлены основные типы научных учреждений: центральный НИИ, отраслевой институт при вузе, низовые учреждения (заводские лаборатории, опытные станции), региональные институты. В период с 1931 по 1955 гг. произошла дифференциация научных организаций по стадиям выполнения исследований и разработок на — научно-исследовательские, конструкторские, проектные и технологические. Основной курс государственной политики состоял в создании необходимых условий для развития практически всех крупных отраслей знаний. Были созданы две практически изолированные друг от друга системы: военная и гражданская. Научный комплекс ВПК включал в себя крупные научно-технические организации и научные системы ряда ведущих вузов страны. В системе гражданской науки были сформированы академический, вузовский, отраслевой и заводской сектора науки.
Организационную структуру академического сектора науки представляли научные организации Академии наук СССР и отраслевых академий. Самое значительное место в академическом секторе занимала «Большая академия» (АН СССР). Созданная в 30-е годы сеть научных центров была преобразована в республиканские академии. В середине 50-х появилось первое региональное отделение Академии наук — Сибирское отделение. В 1987 г. были учреждены Дальневосточное и Уральское отделение. В этот период в академическом секторе получили развитие специализированные научные центры, сформированные на основе объединения институтов, выполняющих исследования в рамках одной или нескольких смежных отраслей знания. Развивалась собственная опытно-производственная инфраструктура: научно-технические центры, полигоны, крупные установки, опытные производства, проектные и конструкторские хозрасчетные организации, инженерные центры.
В академическом секторе формировались различные интеграционные структуры. Во многих академических институтах были созданы научно-учебные центры, научно-технические объединения, научно-технические центры. Формами связи научных организаций с производством были: сотрудничество с отраслевыми министерствами и ведомствами, договоры о совершенствовании производства на конкретных предприятиях, выполнение комплексных народно-хозяйственных программ.
В вузовском секторе науки сформировались множество типов организаций, выполняющих научные исследования и разработки: научно-исследовательские институты, кафедры, научные группы, учебно-опытные и экспериментальные хозяйства, проблемные и отраслевые лаборатории, проектные организации, вузовские и факультетские конструкторские и технологические бюро с собственной экспериментальной базой, обсерватории, ботанические сады, территориальные межвузовские комплексы, научно-учебные центры, совместные подразделения с организациями академического и отраслевого секторов науки. Научно-исследовательские институты при вузах были созданы в рамках незначительного числа крупных вузов страны с преобладанием кафедральной формы организации исследований и разработок. В 70-е годы появились межвузовские комплексы, объединявшие научные коллективы различных вузов с целью выполнения комплексных научно-технических задач. Этот период можно считать периодом организационного оформления вузовской науки на институциональном уровне. Создавалась инфраструктура на основе межвузовского кооперирования по совместному использованию экспериментально-производственной базы, вычислительных центров и т. д. В вузовском секторе были сформированы учебно-научно-производственные комплексы. В частности, Ленинградский институт водного хозяйства[уточнить] (сейчас — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) был создан на основе слияния вуза, научно-исследовательского института и опытного производства[источник не указан 706 дней].
Модель отраслевой науки создавалась с ориентацией преимущественно на прикладные исследования, опытно-конструкторские и технологические разработки. В рамках каждой отрасли народного хозяйства было организовано управление всем циклом проведения исследований и разработок — от фундаментальных и прикладных исследований до их внедрения в серийное промышленное производство. Тем самым отраслевые министерства и ведомства стремились обеспечить научным «сопровождением» весь спектр своей деятельности, жестко контролируя процесс проведения исследований и разработок подведомственными научными организациями. Ведомственные сети отраслевого сектора формировались по двум направлениям: на основе специализации на выполнение исследований и разработок по продуктовым областям и на основе специализации по созданию продуктов и процессов.
Заводской сектор науки объединял инженерно-технические подразделения промышленных предприятий и производственных объединений. Основная направленность их деятельности состояла в развитии и совершенствовании обслуживаемого ими производства. В тот же сектор включались научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, находящиеся на самостоятельном балансе в составе промышленных предприятий и производственных объединений.
Одной из особенностей советской науки являлась её глубокая идеологизация. Наука должна была быть марксистско-ленинской, материалистической. В этом качестве она противостояла науке буржуазной, идеалистической.
Наибольших успехов советская наука достигла в области естественных наук, где идеологический контроль был минимальным. За работы, выполненные в этот период нобелевские премии получили физики: Тамм И. Е., Франк И. М., Черенков П. А., Ландау Л. Д., Басов Н. Г., Прохоров А. М., Капица П. Л., Алфёров Ж. И., Абрикосов А. А. и Гинзбург В. Л., а также химик Семёнов Н. Н. и математик Канторович Л. В., получивший в 1975 г. премию по экономике. Благодаря деятельности И. В. Курчатова, А. Д. Сахарова, С. П. Королева и других ученых в СССР было создано ядерное оружие и космонавтика. В то же время развитие биологии сдерживалось начатой в середине 1930-х годов Т. Д. Лысенко кампанией против генетики, существенно пострадал и ряд других научных дисциплин (см. Идеологический контроль в советской науке).
Следует отметить следующие параметры, характеризующие организационную модель отечественной науки советского периода[2]:
cильный научный комплекс, ориентированный на исследования и разработки оборонного характера в ущерб развитию гражданских отраслей промышленности;
неразвитость технологий двойного назначения, результаты научных исследований и разработок в оборонной промышленности практически не трансформировались в гражданскую сферу, как в странах Запада;
ведомственная разобщенность научного сообщества;
преобладание крупных специализированных научных организаций, особенно в отраслевом, самом масштабном по уровню используемых ресурсов секторе науки;
проведение исследований по всему фронту работ;
базовое финансирование научно-исследовательских организаций, слабо коррелированное с народно-хозяйственными потребностями в научно-технической продукции;
монополия в государственной форме собственности;
относительная изолированность от мирового научного сообщества;
планирование тематики научных исследований и результатов в прикладных областях.
Точкой отсчета процессов трансформации научных учреждений и нарастания кризиса науки следует считать 1987 г., когда было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование», прикладные исследования и разработки признавались товаром, был осуществлен переход к оплате научно-технической продукции по договорным ценам. Однако не происходило обновлений исследований, оборудования и кадрового потенциала. Напротив, углублялся процесс «консервации отсталости» технологического базиса отраслей народного хозяйства.
— очень интересно, кстати, почитать.
А это уже про современность
В России насчитывается около 3,5 тыс. организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками.[3] Около 70 % этих организаций принадлежат государству[3][4].
В период 1995—2005 годов российские учёные опубликовали 286 тыс. научных статей, которые в мире были процитированы 971,5 тыс. раз (по анализу публикаций в 11 тыс. научных журналов в мире). По итогам 2005 года Россия занимала 8-е место в мире по количеству опубликованных научных работ и 18-е место — по частоте их цитирования.[5] При этом в период 1999—2003 годах на долю российских ученых приходилось 3 % от глобального числа публикаций в научных изданиях. Однако, по оценке Королевского общества (Великобритания), опубликованной 28 марта 2011 года, доля российских ученых в период 2003—2008 стала менее 2 %, тем самым оказавшись вне первой десятки государств (ранее занимаемое Россией 10-е место в этот раз заняла Индия)[6].
В России работают тысячи учёных с большим объёмом международного цитирования (десятки и сотни ссылок на их работы). Среди них преобладают физики, биологи и химики, однако полностью отсутствуют экономисты и представители общественных наук.[7]
С 2000 по 2007 годы число патентных заявок на изобретения в России увеличилось на 47 % (с 26,7 тыс. до 39,4 тыс.) — второй по величине прирост среди стран «Большой восьмёрки».[8]
В 2008 году объём научных исследований и разработок в России составил 603 млрд рублей, в 2009 году — 730 млрд рублей.[9]
В 2010 году российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне впервые в истории успешно синтезировали 117-й элемент таблицы Менделеева, 114-й элемент был впервые синтезирован в Дубне ещё в декабре 1998 года, однако независимое подтверждение было получено только в сентябре 2009 года[10].
В последние годы происходит постоянный рост расходов федерального бюджета России на гражданскую науку. Если в 2000 году они составляли 17,4 млрд рублей (0,24 % ВВП России), то в 2005 году — 76,9 млрд рублей (0,36 % ВВП), в 2011 году — 319 млрд рублей (0,58 % ВВП). Из общего объёма расходов федерального бюджета на гражданскую науку 71 % приходится на прикладные научные исследования, 29 % — на фундаментальные исследования (данные за 2011 год).[11]
Правительство утвердило федеральные целевые программы: «Интеграция науки и высшего образования России на 2002—2006 годы», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007—2012 годы», «Национально-технологическая база на 2007—2011 годы». Приняты «Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».
В марте 2006 года правительство РФ одобрило программу создания 7 технопарков — в Московской, Тюменской, Нижегородской, Калужской Новосибирской областях, а также в Татарстане и Санкт-Петербурге.
В 2006 году впервые в бюджете было выделено 3 млрд рублей на повышение зарплат сотрудникам учреждений и преподавателям вузов с научными степенями. Кроме того, в 2005 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении 500 ежегодных грантов президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук и их научных руководителей. В соответствии с указом, ежегодно молодым учёным предоставляются гранты в размере 600 тыс. рублей. В том же году учреждены 100 ежегодных президентских грантов для господдержки научных исследований молодых (до 40 лет) учёных-докторов наук.
В декабре 2006 года были внесены изменения в закон «О науке и государственной научно-технической политике». Изменения направлены на изменения правового положения РАН и отраслевых академий.
8 апреля 2010 председатель правительства России В. В. Путин сообщил, что до 2012 года государство выделит не менее 38 млрд рублей на поддержку научных исследований в вузах.[12]
Правительство РФ поручило Минфину в течение трёх лет выделить 12 млрд руб. на привлечение в российские вузы ведущих ученых. В соответствии с постановлением, из бюджета на эти цели в 2010 году выделяется 3 млрд руб., в 2011 — 5 млрд руб. и в 2012 — 4 млрд руб. Средства выделяются в виде грантов правительства, которые будут на конкурсной основе предоставляться под научные исследования, проводимые в отечественных вузах под руководством ведущих ученых[13].
7 июля 2011 года Указом Президента Российской Федерации № 899 «в целях модернизации и технологического развития российской экономики и повышения её конкурентоспособности» определены приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:
Безопасность и противодействие терроризму.
Индустрия наносистем.
Информационно-телекоммуникационные системы.
Науки о жизни.
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.
Рациональное природопользование.
Транспортные и космические системы.
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика[14].
Тем же указом определён и Перечень критических технологий Российской Федерации.
нехорошее слово «возвращенец», трижды прочитал «извращенец» и хотел написать гневный пост по поводу навешивания ярлыка на данного типа.
Так в исходном интеръвью, так что авторство не моё: «невозвращенец»
«невозвращенец» книга и фильм с таким названием.
книга и фильм с таким названием. реэмиграция) любого рода — это хороший знак для современной России: значит будем жить.
реэмиграция) любого рода — это хороший знак для современной России: значит будем жить.
Вы один из самых известных возвращенцев. Советуются ли уехавшие за границу коллеги относительно того, стоит ли возвращаться в Россию? Если да, что Вы им отвечаете?Кроме того, термин противоположен уже известному с негативным оттенком
— название граждан СССР, а также подданных Российской Империи или других государств, отказавшихся вернуться в страну из легальных заграничных поездок или командировок. Официальное название явления в СССР 1930-х годов: «Бегство во время пребывания за границей».Есть даже
Невозвращенство является формой бегства т.е. нелегальной эмиграции из страны с тоталитарным или «разрешительным» миграционным режимом. Наиболее характерно для таких стран: СССР, КНР (времён коммунистической диктатуры), КНДР, Куба.
Одно из первых упоминаний в российской литературе XIX века о массовом невозвращении российских подданных содержится в мемуарах участника войны с наполеоновской Францией артиллерийского офицера А. М. Барановича.
После возвращения из европейского похода русская армия недосчиталась сорока тысяч нижних чинов, «о возвратe которых Государь Александр и просил короля Людовика XVIII», однако король просьбу императора исполнить не мог «за утайкою французами беглецов, и потому ни один не возвратился»
Градоначальник Москвы генерал граф Ф. В. Ростопчин возмущенно писал своей жене:Возвращенчество (
… До какого падения дошла наша армия, если старик унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейскаго полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей.
Сам Ф. В. Ростопчин, ответственный за пожар Москвы 1812 и брошенных в ней ок. 30 тысяч русских раненных, с 1814 года и почти до конца своей жизни прожил в Париже. Своего друга, бывшего российского посла в Лондоне С. Р. Воронцова он просил помочь приобрести английское подданство:
… Сделайте же мне одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо знак английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право гражданства

![[Трудный разговор с возвращенцем] Биофизик К. Агладзе: Нам надо будет создать более 50 лабораторий к 2020г. в кампусе Физтеха и развернуть здесь серьезные исследовательские мощности](/story_images/390000/1379395584_3_generated.jpg)