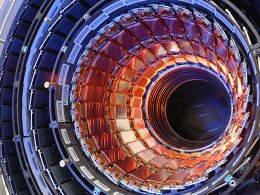Комментарии участников:
Говоря о современной научной и научно-популярной литературе надо иметь в виду, что где-то с последней трети ХХ века в гуманитарной области сильно изменился, усложнился и поскучнел сам язык научных изданий. раньше это случилось в Западной Европе и Штатах, позже и у нас. Читать сегодня научную книгу широкой публике людям гораздо сложнее, чем это делали в CIC веке, когда родилась яркая историческая научная литература.
Тогда у французов, скажем, был античник Гастон Буассье и египтог Гастон Масперо, писавшие так живо и художественно, что сейчас тексты из их книг включают в хрестоматии классических произведений современного французского языка. А после таких влиятельных французов как философ Мишель Фуко и социолога Пьера Бурдье понятийный аппарат и стиль гуманитарного знания стали совсем не для широкой публики. Не знаю даже, как можно популяризировать таких авторов, хотя этим много занимаются у нас и во Франции. Передо мной проблемы популяризации знания не стояло я отнюдь не популяризатор, но, во всяком случае, я чувствую, что проблема языка и, если хотите, перевода знания научного в научно-популярное существует.
Есть люди, у которых нам важнее их творчество, их идеи и подходы, а не доступность оного для широкой публики, например, тот же Бурдье. Но есть и хорошие популяризаторы знания среди профессиональных ученых. Одним из таких (редких сегодня) авторов был совсем не историк, а специалист по естественным наукам Александр Евгеньевич Ферсман, ставший классиком минералогии и геохимии еще при старом режиме, а после революции 1917 года принявший участие в инициированном Максимом Горьким проекте популяризации научных знаний. Он очень увлекательно писал о камнях. Книги его до сих пор переиздают у нас.
Я уже упоминал английского писателя Джефри Триза, книги которого немало помогли популяризации античной и новой истории в Англии и Советском Союзе. Я могу ошибаться, но, наверное, в большинстве случаев науку популяризируют люди, которые специализируются не столько на той или иной науке, сколько на самой популяризации. Тот же Триз не был историком, просто он – хороший популяризатор.
Но к созданию научно-популярных текстов и произведений надо подходить с учетом конкретного исторического и общественного контекста. Современная эпоха пока не дала своих Ферсманов и Тризов. Последнего уже порядком забыли на его родине, где даже его простой язык считается слишком сложным. Там ему предпочитают современные опыты в духе fantasy в стиле Гарри Потера. Как я уже говорил, под влиянием постмодерна (и не только его) был сконструирован специальный язык исторического гуманитарного знания, как правило совершенно непонятный широкой публике из числа носителей того языка, на котором это все пишется. В этом языке много заимствований. Язык очень тяжеловесный и запутанный.
Не могу говорить про всю историю, но как специалист в области того, что касается востоковедения, изучения мусульманских обществ на Кавказе, в России, могу сказать, что та грань, которая разделяла популярную литературу и литературу научную во времена Горького, сейчас стала больше. Может быть, сейчас с этим уже невозможно бороться. Надо не популяризировать, не адаптировать, а просто переписывать все, что пишется сегодня в этой области в серьезной академической науке.
В современной науке есть серьезная проблема чрезмерного наукообразия способа самовыражения. Но отсюда вытекает другая проблема: когда человек начинает писать на более понятном языке, научное сообщество начинает упрекать его в том, что он пишет ненаучно. Если, конечно, он достиг высот и признания в науке, то может делать что хочет, но так – нет. Конечно, есть авторы, живо пишущие не только на русском, но и на других языках. Могу привести Вам один пример. Это в прошлом советский, а теперь американский историк, Юрий Слёзкин, который пишет в основном по-английски. Он – один из классиков современной этнологии и истории. У него есть очень живо и остроумно написанные научные книги, такие как классические «Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера», написанные на английском и вышедшие в авторизованном русском переводе в 2008 году, или совсем недавнее «Еврейское столетие» о ХХ веке, опубликованное у нас чуть ли не сразу после английского издания, в 2007 году под названием «Эра Меркурия: евреи в современном мире». Слёзкину как живому классику многое позволено. Но он совсем не отходит от общих принципов стиля и языка научной гуманитарной литературы. Просто, ему удается более органично и естественно писать на нем, используя те же приемы, метафоры и игру слов, что и более непонятно и сложно пишущие ученые.

![[Интервью] Языки для трансляции научного знания](/story_images/382000/1367764543_13_generated.jpg)